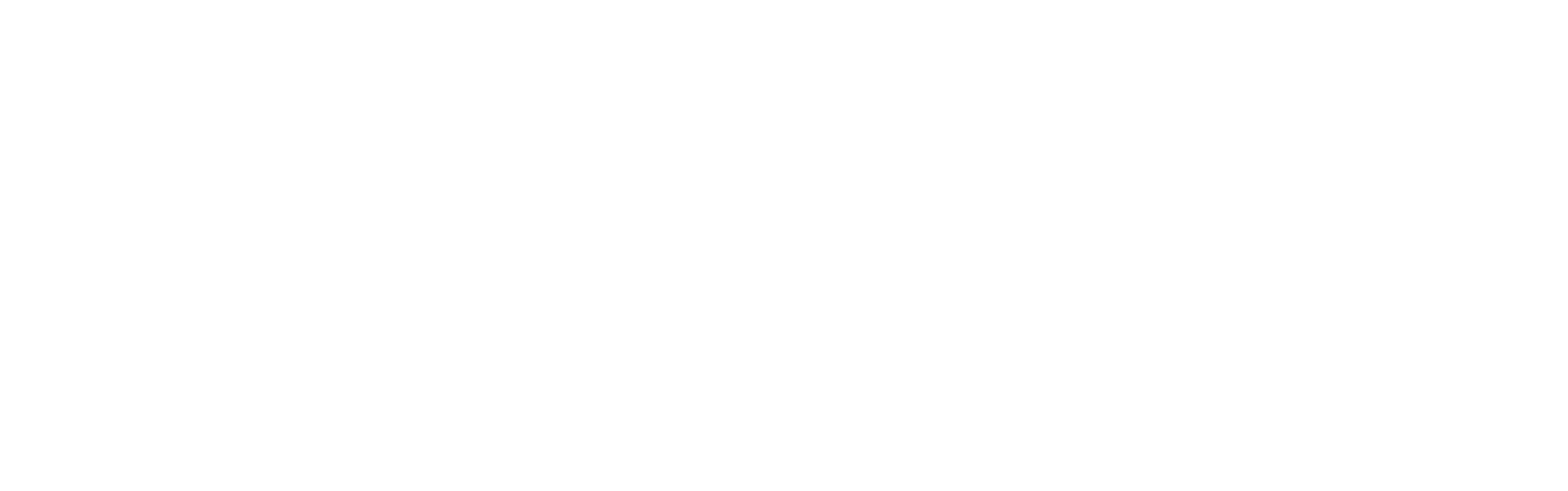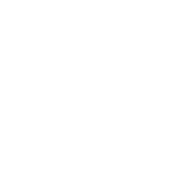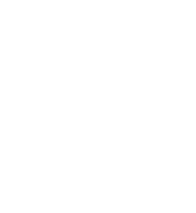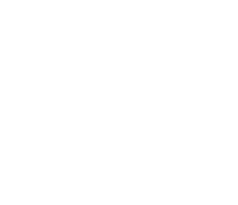Прошлое как инструмент настоящего
Распад Советского Союза стал не только крупнейшим событием конца XX столетия, изменившим политическую карту мира, систему международных отношений и привычный уклад миллионов людей, но и точкой поворота в оценках прошлого в государственных образованиях, возникших на его обломках. Выйдя из общей марксистской теоретико-методологической «шинели», исследователи и политики в постсоветских странах проделали значительный путь по дистанцированию от образов и символов, которые ранее скрепляли в единое целое «новую историческую общность советский народ».
В начале 2000-х гг. российские историки Геннадий Бордюгов и Владимир Бухараев выдвинули тезис об «институционализации и всплеске национальных историографий», где на первый план вместо социально-экономического детерминизма, столь характерного для советских времен, выдвинулся этноцентризм, для которого этно-национальный фактор стал «основным критерием исторического познания» [1]. Этот подход, который можно определить по аналогии с научным коммунизмом как «научный национализм», во многих странах постсоветского пространства и Восточной Европы получил мощную государственную поддержку — не только в виде вновь открывшихся кафедр, мозговых центров, журналов и всего, что имеет отношение к академическому дискурсу, но и более жестких идеологически ориентированных проектов, таких как «институты национальной памяти», специальные исторических общества и ассоциации, разнообразные медийные программы.
В академических исследованиях по историографии принято разделять академический дискурс, где приоритетом выступает решение научных задач (ввод в оборот новых источников, обновление методического инструментария и интерпретаций на основе архивных изысканий), и «национальную память», когда «история находится на службе у формирования идентичности», «осваивается гражданами» и где «к ней апеллируют политики» [2].
Однако в реальности эти два пространства трудно отделимы друг от друга, поскольку профессиональные историки нередко становятся политиками, а политики берутся за продвижение этических правил и норм для академических институтов. Выдающийся итальянский историк и философ Бенедетто Кроче, говоривший о том, что история в не меньшей степени ставит проблемы своего времени, чем той эпохи, к которой обращена и которую изучает, оказался прав [3]. Оценки великих исторических событий прошлого, будь то монгольское нашествие, наполеоновские войны, отмена крепостного права, создание советского государственного проекта и его распад, дают для понимания основных внешне-и-внутриполитических траекторий сегодняшних государств «ближнего зарубежья» не меньше, чем принятые ими документы стратегического планирования. Особенно с учетом того, что практически все программы, директивы, концепции такого рода, как правило, начинаются с апелляции к истории.
В этом ряду особое место занимает память о Великой Отечественной войне. Как выразился главный редактор авторитетного издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в России Великая Победа — ключевое событие для формирования национальной идентичности, стержень внутри- и внешнеполитического нарратива. Между тем, в Европе вовсю идет пересмотр оценок того исторического периода, причин и хода Второй мировой.
Но между этими двумя подходами существует немало нюансированных моделей политики памяти, на которые стоит обратить особое внимание, и именно Южный Кавказ в этой связи представляет яркий пример. В Азербайджане, Армении и Грузии курс на национальную независимость — предмет политического и общественного консенсуса. Историки и политики этих стран, обращаясь к событиям прошлого, всеми силами стараются обосновать закономерность распада Российской империи и Советского Союза, желательность и важность национального самоопределения. Тем не менее тотального разрыва с советскими нарративами не происходит. Мы наблюдаем очень сложную диалектику, в которой сочетаются неприятие «советского тоталитаризма» и комплементарные оценки подвига советского народа в борьбе против нацистской Германии и ее сателлитов. В то же самое время налицо попытки «национализации» совместной памяти, при которой на первый план вместо дискурса «дружбы народов» и «пролетарского интернационализма» выходит приоритизация вклада каждой из республик в общую Победу.
«Память как самостоятельная сфера общественного бытия на протяжении всей истории человечества была самым настоящим полем битвы. Отчасти именно благодаря манипуляциям этой сферой политикам и силам, на которые они опирались, удавалось добиваться своих целей» [4]. В представленной статье мы обратимся к тому, какие бои за память о Великой Отечественной войне происходят сегодня в странах Южного Кавказа.
Кавказ: стратегическая значимость для Победы
Территории современных Азербайджана, Армении и Грузии не были аренами боевых действий в годы Великой Отечественной. В отличие от Белоруссии, Молдавии или Украины, они не подвергались оккупации. Максимум того, что достигли немецко-фашистские войска на кавказском направлении — занятие Санчарского, Клухорского, Марухского перевалов Главного Кавказского хребта и высокогорного села Псху в Абхазии (примерно в 20 км от Гудауты). В то же время стоит иметь в виду, что битва за Кавказ относится к числу наиболее важных сражений. Она во многом предопределила общий исход войны. Сражение за Кавказ началось 25 июля 1942 г. и стало одним из самых масштабных и продолжительных битв Великой Отечественной войны, продлившись 442 дня (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.). Дольше продолжалась только оборона Ленинграда. Для сравнения, Курская битва шла 50 дней, битва на Волге — 200 дней, оборона Москвы продолжалась 67 суток.
Но дело не только и даже не столько в продолжительности того или иного сражения. В борьбе за Кавказ были поставлены самые высокие военно-политические ставки. Развязав Вторую мировую войну, Германия оказалась в ресурсной ловушке. Масштабные боевые действия (которые впоследствии даже до проведения операции «Оверлорд» де-факто шли на два фронта, если взять бои в Северной Африке и на Сицилии) требовали колоссальных запасов топлива, а демагогией про «расовую чистоту» компенсировать этот дефицит не представлялось возможным. Между тем, немецкие компании в канун войны добывали всего лишь 0,55 млн тонн нефти в год. С исчезновением американского канала импорта «черного золота» Третий Рейх мог черпать его только из румынского источника. О факторе топливного дефицита в своих мемуарах неоднократно упоминал министр вооружений нацистской Германии (февраль 1942 – апрель 1945 гг.), любимый архитектор Адольфа Гитлера Альберт Шпеер [5]. Начальник генштаба германских сухопутных войск в 1938–1942 гг. Франц Гальдер выразился еще более определенно: «Для операции на Кавказе потребуются крупные силы, но за кавказскую нефть следует заплатить любую цену» [6]. Как следствие, Баку был определен в качестве одного из ключевых приоритетов плана «Блау» во время германского наступления на Кавказ. Помимо этого, командование Вермахта расчитывало также овладеть и портами Кавказа, которые после утраты Севастополя стали «родными гаванями» для советских моряков-черноморцев.
Значимость Кавказу, впрочем, придавали не только планы Третьего рейха и его сателлитов. 23 августа 1941 г. директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 001197 на базе Закавказского военного округа был создан Закавказский фронт с целью прикрытия госграницы на иранском и турецком направлении и участии в обороне черноморского побережья Кавказа [7]. «Персидский коридор» был одним из важных маршрутов поставок западных союзников в СССР в рамках ленд-лиза, тогда как Турция, говоря словами профессора Селима Дерингиля, проводила политику «активного нейтралитета», балансируя между Берлином и Москвой и сохраняя при этом высокий уровень экономической кооперации с нацистской Германией и фашистской Италией [8]. Более того, в руководстве СССР рассматривали варианты, при которых было возможно втягивание Анкары в вооруженное противостояние на стороне государств «оси». Закавказский фронт был преобразован в два военных округа — Тбилисский и Бакинский — только 23 августа 1945 г.
Таким образом, стратегическая значимость Кавказского региона в годы Великой Отечественной (и в целом Второй мировой) войны и сегодня определяет повышенный интерес к роли и вкладу народов Азербайджана, Армении и Грузии в общую победу. В мемориальных практиках во всех этих странах можно увидеть немало парадоксальных явлений, плохо вписывающихся в «двухцветные» представления об общественно-политических процессах на Южном Кавказе.
Конфликты — памяти не помеха
Южный Кавказ — один из самых турбулентных регионов постсоветского пространства. На его территории прошло больше конфликтов, чем в любой другой части бывшего СССР, а также сформировалось рекордное количество де-факто государств. Везде обращение к истории служило скорее не инструментом сглаживания противоречий, а напротив, становилось триггером этнополитической эскалации [9]. Однако отношение к памяти о Великой Отечественной войне и Победе Советского Союза над нацистской Германией занимает особое место в политике памяти Азербайджана, Армении и Грузии.
Несмотря на то, что официальные представители Баку и Еревана заявили о согласовании всех статей текста мирного соглашения, достижение мира не как подписания того или иного документа, а как устойчивого состояния раз за разом откладывается. Азербайджанское руководство выдвигает армянской стороне такое предусловие, как исправление Конституции, содержащей отсылки к Декларации от 23 августа 1990 г. (в ней самоопределение Армении понимается как «миацум», то есть единство с бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью).
Однако лидеры двух стран, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли приглашение российского президента Владимира Путина посетить Москву во время торжественных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в октябре 2024 г., президент Азербайджана заявил: «Наш общий праздник Победы 9 Мая — важный фактор дальнейшего сотрудничества государств — членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия…При общей численности населения Азербайджана в тот период в 3,4 млн человек на фронт ушло около 700 тыс. На полях сражений погибло более 350 тыс. 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза». Обращаясь к своим согражданам по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Никол Пашинян констатировал: «Выиграв войну, цивилизованное человечество сказало “нет” одному из величайших зол — фашизму. В этом деле неоценима роль армянского народа, более полумиллиона представителей которого в Советской Армии, союзных армиях, партизанском и подпольном сопротивлении внесли весомый вклад в спасение человечества от фашизма».
Здесь стоит обратить внимания на два важных сюжета. Отношения между Россией, с одной стороны, Арменией и Азербайджаном, с другой, переживают сложные времена. Армянское общество и политические элиты травмированы утратой Нагорного Карабаха вследствие двух тяжелых военных поражений, ответственность за что пытаются переложить на Москву, и в то же время стремятся диверсифицировать свою внешнюю политику посредством укрепления отношений с США и ЕС. Охлаждение российско-азербайджанских отношений произошло на фоне того, как пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 г. Однако все эти проблемы не повлияли на решения Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, хотя последний подвергся жесткому давлению со стороны Евросоюза, объявившего обструкцию для всех партнеров и членов ЕС, готовых посетить Москву 9 мая 2025 г. По этому случаю спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил: «Это и наша победа. 300 тысяч армян отдали свои жизни за нее, многие сражались в рядах армий стран-союзников. Поэтому участие Пашиняна в мероприятиях 9 мая — в первую очередь вопрос исторической памяти и уважения, а не политических сигналов».
Заметим, что у этой парадоксальной общности есть и своя традиция. На параде 9 мая 2010 г. в Москве армянские и азербайджанские войска шли в одном парадном строю ради общих символов. При этом не исключено, что ранее они смотрели друг на друга исключительно в прорези прицелов.
В Армении и в Азербайджане сохраняются памятники героям Великой Отечественной войны, а в школьных учебниках это событие оценивается, как решающий вклад народов в победу над Третьим Рейхом и его союзниками. В Баку и Ереване проходили акции «Бессмертного полка».
Но если Азербайджан и Армения конкурируют за влияние на Россию и заинтересованы (хоть и каждый по-своему) в сотрудничестве с ней, то в Тбилиси отношение к Москве намного более сложное и противоречивое. Несмотря на то, что в 2022–2025 гг. Грузия дистанцировалась от курса Запада на российском направлении и начала переосмысливать ключевые приоритеты своей внешней политики в целом, сохраняются принципиальные разночтения по вопросам о статусе Абхазии и Южной Осетии. По словам спикера национального парламента Грузии Шалвы Папуашвили, главным препятствием на пути к нормализации двусторонних отношений служит «оккупация» Россией территорий двух бывших автономий Грузинской ССР. Таким образом, утрата Южной Осетии и Абхазии воспринимается не как провал собственного национально-государственного строительства, а результат злонамеренных действий России.
Тем не менее в Грузии 9 мая сохраняется в качестве государственного праздника и выходного дня, который отмечается как День Победы над фашизмом. Руководители страны ежегодно возлагают цветы к Могиле неизвестного солдата, расположенной в парке Ваке в Тбилиси. 9 мая 2019 г. в Грузии впервые прошла акция «Бессмертного полка», ставшая предметом широкой дискуссии в СМИ и социальных сетях. Также регулярно (за исключением «ковидного» 2020 г.) организуются концерты и торжественные приемы для ветеранов Великой Отечественной войны, власти реализуют передачу им материальной помощи эквивалентом в 190 долл. для участников военных действий, и более 250 долл. для семей погибших. В 2024 г. каждому ветерану была предоставлена единовременная выплата в размере 2000 лари (около 68,5 тыс. рублей). Традиционно на телевидении 9 мая демонстрируется знаменитый фильм Резо Чхеидзе «Отец солдата» с Серго Закариадзе в главной роли.
«Национализация памяти» об общей Победе
Победа в Великой Отечественной войне остается общим связующим звеном между народами Южного Кавказа, а также между ними и Россией, но этот вывод не должен создавать благостной картины. В Азербайджане, Армении и Грузии происходит смена поколений. На сегодняшний день участники Великой войны практически полностью ушли из жизни. В Азербайджане по данным на март 2025 г. остался 21 ветеран Великой Отечественной, в Армении по состоянию на апрель 2025 г. — 32 ветерана (самому старшему из них 104 года), а в Грузии по сведениям на май 2024 г. — 66 человек (в 2023 г. — 116). Выросли новые поколения, не имеющие советского опыта, сделавшие карьеру уже в период национальной независимости и не знающих других реалий кроме как государственность Азербайджана, Армении и Грузии. Таким образом, в оценке как общего советского прошлого, так и общей победы все чаще проявляются иные приоритеты, призванные подчеркнуть не общность исторической судьбы в рамках СССР, а особые заслуги азербайджанцев, армян и грузин.
В грузинском контексте памяти о Победе особого внимания заслуживает фигура Иосифа Сталина. По словам историка Юрия Анчабадзе, «крайне негативное восприятие грузинским историческим сознанием советского тоталитаризма сочетается с лояльным отношением к одному из его главных творцов» [10]. Даже такой радикальный поклонник декоммунизации и сближения с Западом как М. Саакашвили не решался покуситься на монумент вождю, установленный на его родине в Гори в 1952 г. С центральной площади этого города памятник убрали только в 2010 г., хотя и сегодня в Грузии не прекращаются дискуссии о необходимости его восстановления.
Посмотрим на процессы «декоммунизации» в соседней Армении или в Азербайджане. Там исчезли многие памятники, улицы получили новые названия. Однако в контексте памяти о Великой Отечественной можно утверждать о государственном и широком общественном почитании советских военачальников Ивана Баграмяна, Амазаспа Бабаджаняна, Ивана Исакова и Сергея Худякова (Арменака Ханферянца), Ази Асланова, Ягуба Гулиева, Гусейнбалы Алиева.
В то же самое время «национализация истории» на Кавказе порой провоцирует недопонимания даже между стратегическими союзниками. Достаточно вспомнить споры вокруг таких фигур, как Гарегин Нжде или Дро (Драстамат Канаян), которых в Армении воспринимают как национальных героев, а в России как коллаборационистов. В Азербайджане их официальную мемориализацию Ереваном пытаются использовать инструментально в диалоге с Москвой как доказательство приверженности общей памяти о Великой Победе в противовес армянскому «ревизионизму». Между тем, стоит отметить, что знаки внимания со стороны власти таким персонам, как Нжде и Дро не привели к вытеснению этими персонажами героев Великой Отечественной войны или советских лидеров армянского происхождения. Символично, что один из главных провластных телеграм-каналов в сегодняшней Армении носит имя «Баграмян 26» (отсылка к резиденции премьера, расположенной на проспекте, названном в честь одного из маршалов Победы).
При этом в каждом из государств региона подчеркивается особые вклад и значимость союзной республики в Победу СССР над Третьим Рейхом. В Азербайджане частью национального нарратива стала особая фокусировка на факторе «бакинской нефти». «Бакинская нефть сыграла исключительную роль в достижении Победы во Второй мировой войне. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов машинных масел, израсходованных Советским Союзом во время войны 1941–1945 годов, приходятся на долю Азербайджана, — заявил в одном из своих многочисленных выступлений на эту тему президент Ильхам Алиев. В канун 70-летнего юбилея Победы Баку был удостоен звания «город-герой». В грузинском и в армянском нарративах особо подчеркивается роль «особой жертвы», которую эти народы принесли на алтарь Победы (подробно фиксируется количество призывников из этих республик, масштаб невосполнимых потерь среди грузин и армян) [11]. При этом в грузинских учебниках по сравнению с армянскими и азербайджанскими сам концепт «Великая Отечественная война» оценивается с критическим пафосом, как изобретение «советской пропагандисткой машины». Этой дефиниции предпочитают определение «Вторая мировая война». Налицо и попытки «уравновесить» участие этнических грузин в частях Красной армии и «восточных формированиях» Вермахта [12].
***
Таким образом, несмотря на острые противоречия, конфликты и различия в подходах к историческому прошлому страны Южного Кавказа по-прежнему сохраняют и на государственном, и на общественном уровне уважительное отношение к истории Великой Отечественной войны и памяти о своих земляках, принявших в ней участие. Меняются акценты в оценках событий 1941–1945 гг., происходит неизбежное для новых национальных государств выдвижение собственного нарратива на первый план за счет вытеснения на обочину сюжетов, подчеркивающих общесоветское единство. Выдвигаются новые темы и приоритеты для исследований. В случае с Азербайджаном речь идет о «политэкономических сюжетах» (нефтяной фактор Победы, тыловая инфраструктура), в случае с Грузией и Арменией — демографических потерях, уникальном вкладе выдающихся представителей своего народа в общее дело. При этом усиливается националистический дискурс, в рамках которого образы Ивана Баграмяна и Гарегина Нжде, Иосифа Сталина и Михаила Ахметели, Ази Асланова и Абдуррахмана Фаталибейли (Або Дудангинского) конструируются не как противников (каковыми они в действительности были), а как подвижников «национального дела» в разных государствах и военных блоках. Профессиональные историки уже без обличительного пафоса пишут о националистах, выбравших в 1940-х гг. путь коллаборационизма с нацистской Германией.
Однако эти переоценки не вылились в девятый вал переписывания истории и отрицания значения победы Советского Союза. Поэтому сегодня День общей Победы в Великой Отечественной войне в странах Южного Кавказа остается по-настоящему уникальной датой и особым символом, позволяющем говорить о том, что далеко не все ценности советского прошлого полностью девальвированы, переоценены и забыты. Они переосмысливаются в новых условиях, не всегда корректно и качественно, но не становятся объектом тотального отрицания.
- Бордюгов Г.А., Бухараев В.М. Национальная историческая мысль в условиях советского времени // Национальные истории в советском и постсоветских государствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХ, 2003. С. 21–72.
- А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 35.
- Кроче Б. Теория и история историографии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 2-3.
- Бордюгов, Г.А. Изучение «политики памяти» – задача научная или политическая? //Международная аналитика. - 2020. Т. 11. № 3. - С. 151–158
- Шпеер А. Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. 1930-1945. М.: Центрполиграф, 2005. 656 с.
- Гальдер, Ф. Военный дневник (Июнь 1941 сентябрь 1942). — М: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. С. 227.
- Фронты, флоты, армии, флотилии периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / сост. Н. И. Никифоров. - М.: Кучково поле, 2003. - 328 с
- Deringil S. Turkish Foreign Policy During the Second World War: An Active Neutrality. Cambridge University Press, 2004.252 p.
- Kaufman S. Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War. Cornell University Press. Ithaca, NY 2001. P. 49-127.
- Анчабадзе Ю.Д. Национальная история в Грузии: мифы, идеология, наука // Национальные истории в советском и постсоветских государствах. / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М.: АИРО-ХХ, 1999. С. 169.
- Енокян А.В. Указ. соч.; Рцхиладзе Г.В. Указ. соч.
- Рцхиладзе Г.В. Указ. соч. С. 410-411.